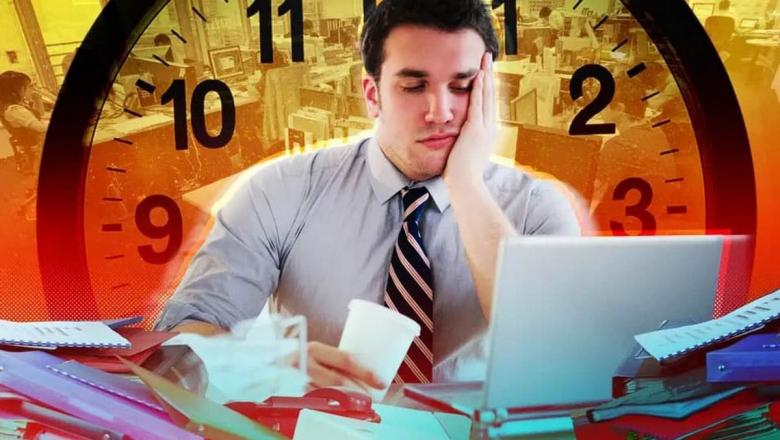Почему в продаже нет питьевого спирта?
"Лет десять назад чуть ли не в любом ларьке можно было приобрести питьевой спирт. Один "Royal" — целая веха в российской жизни. А сейчас питьевого спирта в продаже не встретишь. Почему?"
Первая мысль очевидна, это, наверное, как с нашим карельским лесом: выгоднее продавать продукт глубокой переработки, нежели сырье. То есть торговля водкой и аналогами выгоднее продавцу, чем торговля спиртом. Однако оказалось, что питьевым спиртом у нас попросту нельзя торговать. Первой этот приговор засвидетельствовала начальник городского Управления торговли и потребительского рынка Светлана Орлова. Комментариев, почему государство поставило в неравное положение водку и спирт, не последовало.
В поисках ответов лезу в Закон о производстве и распространении алкоголя в России, вышедший в 1995 году и действующий и поныне. Выясняется любопытная вещь: продавать питьевой спирт нельзя везде, кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Разве Карелия не входит в их число? Ищем правды у Ивана Романова, предпринимателя с приличным опытом работы на алкогольном рынке и нынешнего руководителя ликероводочного завода "Петровский". "Дело в том, что питьевой спирт у нас никогда и не продавался", — вносит новую интригу в ситуацию Иван Николаевич. "А как же пресловутый "Royal"? — интересуюсь я, не от бабушки о нем наслышанная, а нутром знакомая. "Это были времена беспредела, — предприниматель вычеркивает 90-е из жизни. — Торговать питьевым спиртом запрещено". Моя ссылка на строку закона его не убеждает: "Может, по каким-то льготам мы и приравнены к районам Севера, но по алкоголю — нет". "А вот на настоящем Крайнем Севере, — интересуюсь я задумчиво, — продают?" Иван Николаевич не в курсе. А я вспоминаю рекламу, и зависть как рукой снимает: радио, две кружки и банка Nescafe.
Куда деваются сданные анализы?
"Не могу похвастаться отменным здоровьем, часто приходится сдавать анализы. Давно мучает вопрос: а куда деваются наши заботливые баночки с жидкими и твердыми отходами?"
Не вижу ничего нецензурного в словах "моча" или "кал",
но главврач поликлиники №1 Михаил Стоцкий упорно предпочитал обозначать предмет разговора "биоматериалами". И рассказал, что утилизация этих самых биоматериалов производится согласно специальным "и очень толстым" санитарным нормам, принятым в конце 90-х годов. Они делят абсолютно все отходы на 4 класса, и в этой связи предписывают, как их уничтожать. А именно: и моча, и кал, после того как выдали врачам всю правду о нашем здоровье, помещаются в специальные емкости, затем их заливают дезодорирующими растворами, а затем все это банально сливается в канализацию. Если говорить об объемах, то ежедневно лаборатория поликлиники способна обработать около 100 анализов мочи. Для одного анализа достаточно 50 миллиграммов (пятая часть стакана), но этого добра мы не жалеем, а значит, как минимум 5 литров, а как максимум в три раза больше желтых "биоматериалов" пополняют го- родскую канализацию. Как источник изучения здоровья твердые отходы способны на меньшее, требуются врачам гораздо реже и по объемам проигрывают переработке жидких отходов в разы.
Вот так изо дня в день гибнут препарированные отходы.
Ничего не меняется, кроме разве того, что майонезная промышленность все больше переходит на пластиковую упаковку и нам все труднее находить удобную тару для транспортировки мочи. Хорошо хоть зажигалки не окончательно задавили спичечную промышленность, а значит, пока нет проблем с перевозкой кала.
Ну а напоследок такая проза, как анализы крови. По санитарным нормам во избежание вторичного использования иголки от шприцов помещаются в специальную емкость и заливаются... цементом. Хотя одна моя подруга, бывший медик, услышав об этом, хмыкнула: "Ни разу не видела у нас в больнице цемента... Мы иголки просто ломали". Так или иначе, идея поиска иголок в больничных помойках бесперспективна.