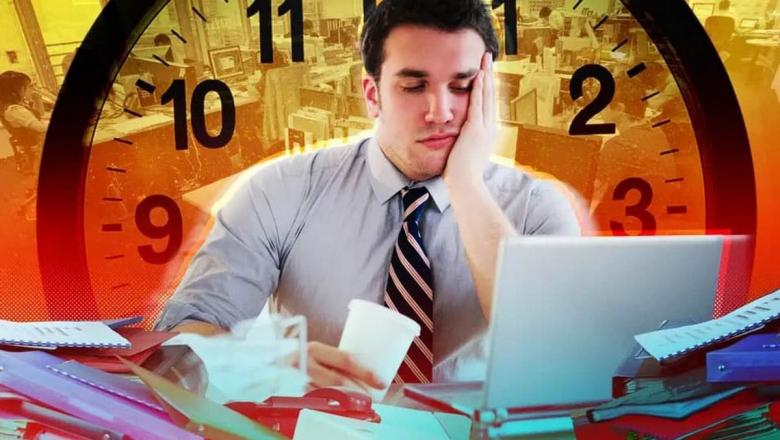В своих школьных заметках учительница русского языка, скромно назвавшая себя "А.С.", продолжает знакомить читателей с буднями маленьких гимназисток. Кроме банальных (и актуальных во все времена) наблюдений о том, как скверно ведут себя родители, которые смотрят на своих детей "сквозь розовую призму", узнаем также и о том, чем отличались тогдашние школьницы от нынешних:
"Если хотите знать, что из различных видов занятий по русскому языку мои ученицы больше всего любят, то это, бесспорно, стихотворения, — горделиво сообщает автор статьи. — Когда совпадают рядом два праздничных дня, то я уже знаю: на последнем уроке ученицы будут просить: "Задайте нам стихотворение, да побольше!"
В следующем номере – откровения еще одного учителя. Он рассуждает не о школе, а о том, как важно знать карельский язык всем, кто работает в Карелии. Автор рассказывает о том, как 24 года назад он приехал в Карелию, в Святозеро, и обнаружил, что без знания карельского языка обходиться здесь трудно. Приводит примеры из жизни, удивляющие своей наивностью:
"Когда, например, при уходе из школы новым ученикам нужно было втолковать, чтобы они помолились, учительница сказала несколько раз: помолись, перекрестись, — видит, что толку мало. И сейчас же сказала эти слова по-карельски. И дело наладилось".
"Одно уже знание слов выручает во многих случаях. В обыденной жизни мало ли что случается. Привожу случай. Недавно мне понадобилась береста. Всю деревню обошел, спрашиваю бересты. Положительно ни один человек не понимает. А кто понимает, того нет дома. И вот я обратился к первой встретившейся женщине и по-карельски говорю ей: анда (дай) туохтэ (бересты). Она сейчас же принесла два-три куска". Почему же было не обратиться сразу по-карельски? Читаем дальше – о том, что священникам тоже необходимо знать карельский:
"Если, например, на исповеди не умеешь спросить карела "эд-го варгастанну?" (не воровал ли?), тверди начальную форму "варгастан". Карел, может быть, улыбнется, а все же поймет".
Между делом автор отпускает замечание в адрес псаломщиков: мол, им необходимо не язык учить, а семью заводить. Холостые певчие из-за безделья, тоски и скуки начинают "дурачиться". Я всегда догадывалась, что занятия музыкой, пусть и церковной, некоторым образом раскрепощают душу. Вот даже духовные люди "дурачатся".
А вот другие "анекдоты" из двуязычной Карелии начала века:
"Приходит ко мне волостной писарь, русский. Присели, курим, толкуем о том-ином, и вдруг писарь спрашивает: "А что это мне часто говорят "тара пия, тара пия". Вы понимаете? Подумал я, что это такое, и сейчас же смекнул, что ему говорят "дярэд пия", то есть "толстая голова" — просто ругают. Голова его казалась действительно толстою. Конечно, я перевел в благоприятном для него смысле".
Далее – наблюдения в кабинете фельдшера. Просто комическая миниатюра:
"Сижу я у фельдшера, он по-карельски не понимает. Приходит женщина. Что болит? Женщина молчит, потом, должно быть, догадалась и говорит: амбагат (зубы) пакотэта (болят). Я фельдшеру перевожу: зубы. Фельдшер спрашивает: который зуб? Молчание. Посмотрела на меня и говорит: дюурэд. Говорю ему: корни. Но переводчик, как я, постоянно ли у фельдшера?"
Нет, ну как с индейцами! Вот она – колонизация "русских" земель во всей красе: каких-то сто лет назад русских в Карелии было значительно меньше, чем карелов. О степени взаимопонимания тех и других можете судить сами.