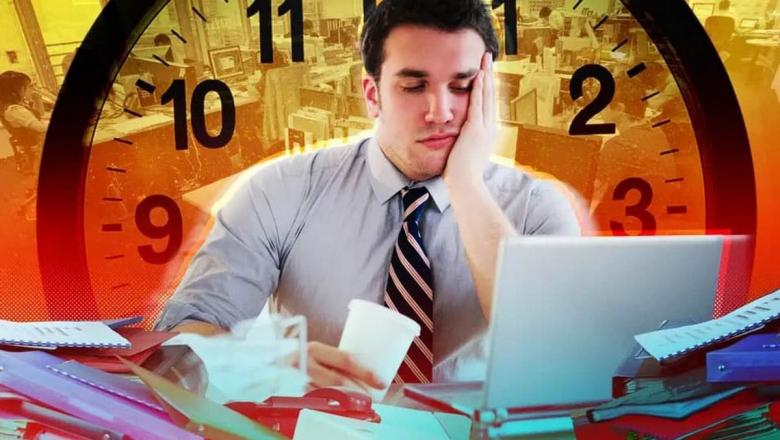– Вот так относятся к образованию учителя в Европе. А у нас – модернизация, сопровождаемая такими терминами, многие из которых и со словарем не поймешь, – рассказывает директор Карельской региональной общественной педагогической организации «Учитель Республики Карелия» Ольга Германова. Об образовании за рубежом и в России, о том, бывают ли плохие учителя или все дело в плохих учениках, а еще о том, как рассказать о Чайковском с помощью конфет.
Музыка должна быть уроком здоровья
Помимо вышеописанного директорства, Ольга Германова – учитель музыки и заместитель директора по воспитательной работе петрозаводской средней школы №3. Сейчас, наверное, многие фыркнули: дескать, что это за предмет такой – музыка? Так, час потерянного времени. И о чем может рассуждать учитель этой самой музыки? К ней поди и на уроки-то приходят «полтора землекопа»… Ошибаетесь, на уроках Германовой всегда стопроцентная посещаемость и никаких опозданий.
– Вот, Сергей, посмотрите, что вы об этом думаете? – спрашивает нашего фотокорреспондента Ольга Леонидовна, показывая поднос, на котором чай, кофе, драже, карамель и шоколад. Сергей, безусловно, о чем-то подумал, но совершенно точно не о Чайковском. А ведь все это, скажем так, понятные зрительные образы, которые просто запомнить второклашкам, знакомящимся с балетом «Щелкунчик». Там есть танец феи Драже, Испанский танец (шоколад), Арабский танец (кофе), Трепак, или Русский танец (карамель).
Дети смотрят отрывки из постановок «Щелкунчика» разных театров и рассказывают, что они думают об этих танцах и о балете вообще. Но уже очень скоро все их внимание занимает поднос со сладостями. Тогда Ольга Леонидовна предлагает им по-честному выиграть эти сладости, всего-то и надо – послушать музыку и угадать, какой именно танец звучит. Дети охотно включаются в эту игру, просят учителя включить музыку еще раз, чтобы не ошибиться в ответе. В итоге танцы разгаданы, конфеты съедены, а дети, когда пойдут на балет «Щелкунчик», уже будут «читать» музыку, а не пытаться осмыслить некое непонятное действо на сцене во время дивертисмента.
– А не рановато ли «Щелкунчика» во втором классе?
– Нет, конечно. Мы со второклассниками слушали Адажио Альбинони, и вы представить себе не сможете, каких слов они мне наговорили… Знаете, я что в 9-м классе даю, то пробую и во втором, чтобы посмотреть, у кого более чувственный мир. Маленький ребенок чувствует и реагирует на все открыто. А потом… наверное, что-то в школе и в жизни мы делаем такое, что дети закрываются. Вот с этим я борюсь, хочу, чтобы дети оставались искренними.
– Что все-таки отвечали второклассники после Адажио Альбинони?
– Не зная истории этого произведения, а только послушав музыку, они рассказывали о грусти, о боли, о страдании, о какой-то потере. Где в свои 8 лет они успели узнать о таких чувствах? Я была поражена. Но это здорово, потому что мне самой должно быть интересно с моими учениками, я хочу вместе с ними все заново переживать. Но все же на уроке меня должно быть мало – больше музыки и размышлений, эмоций детей. Моя задача, чтобы они пели, играли – чтобы они были главными героями урока. Как это происходит в европейской системе образования – я иногда не вижу, где там учитель. Дети все заняты, а учитель только направляет.
– К урокам музыки сейчас и ученики, и родители относятся со скепсисом. Нужна ли музыка в школе?
– Я очень серьезно отношусь к своему предмету и считаю, что музыка должна быть уроком здоровья, который способен создать нужное настроение, заставить подумать. Дети должны получать от музыки удовольствие, каждый раз открывая что-то новое.
– Бывают плохие учителя? Или есть плохие ученики?
– Я об этом задумывалась, потому что слышу порой: «Ой, у нас такой плохой коллектив» или «Дети такие сложные». Так разберитесь, почему плохой коллектив? Почему сложные дети? Я всегда говорю учителям, что сначала надо найти причину. Опаздывают на уроки? Давайте разберемся, на чьи уроки опаздывают, а потом постараемся понять – почему. И дальше уже решать проблему. Ведь часто с ребенком надо просто поговорить. Я всегда говорю с учениками, и они меня многому учат. Бывает, что я ошибаюсь, но тогда я извинюсь перед ними и считаю, что это правильно, это зрелые отношения. В общем, мне кажется, бывают трудные ситуации, но учителя – хорошие люди и дети все – очень хорошие.
Через Лондон в Турцию
– Раз уж вы упомянули европейскую систему образования, расскажите, чем уж так сильно она отличается от российской?
– Там все по-другому. Я три года возглавляю нашу общественную организацию «Учитель Республики Карелия», и за это время мы побывали во многих странах, то есть нам действительно есть с чем сравнить. Например, в Финляндии очень просто решили проблему сменной обуви, при этом позаботившись о здоровье детей. Дети просто снимают обувь, перед тем как зайти в класс, и весь урок сидят в носочках, сами признаются, что за день ноги в ботинках очень устают, поэтому они довольны таким правилом. Там же, в Финляндии, и во многих других странах Европы детей не вызывают отвечать к доске и не отчитывают за несделанное домашнее задание. Делается это с одной целью – детям не должно быть стыдно за что-то. А вот с родителями разговаривают очень много. Ну и система преподавания там совсем другая. Если ребенок приходит на урок ИЗО, то только он сам решает, чем будет рисовать, и это все есть в классе – никаких тебе: ах, ты сегодня опять забыл краски! Учитель лишь направляет, помогает, подсказывает. А кабинет музыки… там даже парт нет – одни музыкальные инструменты, и дети на них играют. Учитель, естественно, может дать азы игры на любом инструменте. Я расстроилась, конечно, потому что у меня лишь фортепиано да баян, на этом – все. А там 18 элективных курсов по музыке!
– Какие самые яркие впечатления за эти три года поездок?
– Ой, они все яркие и очень разные. Например, мы часто ездим по республике с семинарами и мастер-классами – и нас везде очень тепло принимают. Мы не устаем удивляться энтузиазму и интересу учителей в сельских школах – это увлеченные люди, зачастую куда интереснее многих уставших, унылых и раздраженных столичных учителей. Это не мы приезжаем их учить, а они нас многому учат. Безусловно, яркие впечатления от визита в Турцию, где мы побывали в частной школе «Дога».
– В Турции-то вы как оказались?
– В прошлом году мы поехали в Лондон на международную выставку интерактивного оборудования для образования ВЕТТ-2012 (British Education and Training Technology). И там мы попали на выступление представителей школы «Дога», они так рассказывали о своей школе, что мы поняли: это школа мечты. Возможно, так нельзя было делать, но мы подошли, переговорили и в апреле поехали в Турцию. Нас встречали как самых больших людей. Когда я перешагнула порог номера (а точнее, комнаты в общежитии), я подумала: у нас, наверное, в номерах «люкс» нет такого. А когда узнала, что вся косметика для ванной комнаты сделана учениками, была очень удивлена. В этой школе готовят бизнесменов и учат их разным навыкам – самим работать и зарабатывать первые небольшие деньги, принимать и сопровождать гостей, правильно вести себя в обществе. Дети встречали нас за завтраком и были с нами везде – на кофе-паузах, вечером в кафе. Они бегают не за футбольным мячом, а за кроликами, а урок математики у них прямо на улице, куда они выходят со своими ноутбуками. Кстати, вскоре коллеги из Турции приедут в Петрозаводск с ответным визитом.
– Будет, что показать?
– А как же!
– Хорошо, знакомство с системами образования – это понятно, но что вы делали на специализированной выставке в Лондоне?
– Поехали посмотреть – мы же должны быть в курсе новинок интерактивного оборудования для образования. А то деньги выделяют, мы должны что-то покупать, а потом выясняется, что это уже вчерашний день. Но в Лондоне нам, кстати, тоже удивились – все спрашивали: «Вы просто учителя?» Мы были первыми учителями из России, которые приехали на эту выставку. И обязательно поедем в этом году, потому что то, что там показывают – это действительно образование будущего, и надо идти в ногу со временем, как бы пафосно это ни звучало.
Пора менять систему
– Поскольку вы упомянули выделение денег, никак нельзя не спросить о модернизации. Она приносит какие-то результаты, меняет что-то?
– У меня такое ощущение, что мы не друг с другом работаем, как учитель с ребенком или как коллега с коллегой, а с бумагами. Это общеизвестная проблема. Здесь надо менять сам подход – начинать надо с учителя, ему должно быть интересно. Хорошо, конечно, что заборы вокруг школ строят, оборудование какое-то закупают и школы все больше становятся похожи действительно на школы. Но чтобы изменить систему – этого мало.
– Что-то предпринимаете для того, чтобы исправить ситуацию?
– У нас ушло три года на то, чтобы собрать приличный костяк активных учителей, и сейчас мы приходим к выводу, что должны стать такой объединяющей силой, которая может что-то изменить. Я уже говорила, что начинать надо с учителей: если каждый учитель на своем месте немножечко по-другому станет относиться ко всему, что есть в системе образования, то и ситуация изменится. Наши семинары – первые шаги в этом направлении, потому что каждый раз находятся учителя, которым действительно интересно работать и развиваться, и они заражают своим примером других. Это, кстати, спасает от профессионального выгорания.
– У российского образования есть будущее?
– Я очень надеюсь.
– А сейчас пациент скорее жив, чем мертв?
– Ох, не люблю я такие вопросы… Я скажу так: надо больше учиться, делать правильные выводы и смотреть в будущее с оптимизмом. А вообще, трудно сейчас, конечно.