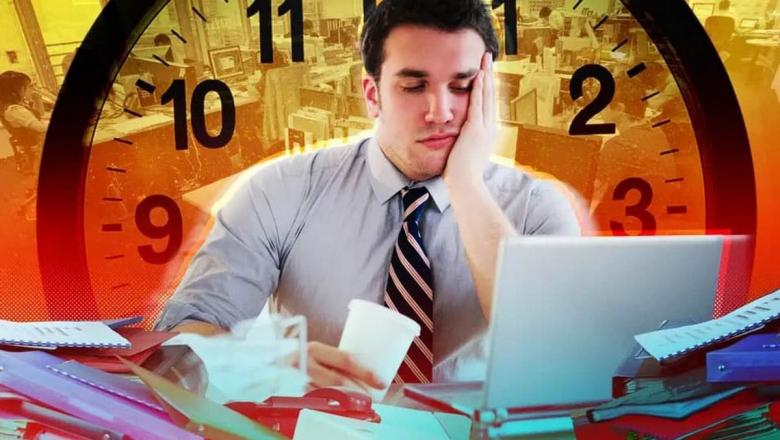"Я в школу пошел, не зная русского языка, — говорит петрозаводский писатель Петр Семенов. — Мы все, как карелы, так и русские, в Крошнозере говорили только на карельском. Учительница задавала вопросы на русском, а мы отвечали на своем родном. Но после запретов на наш язык карелы стали стесняться говорить на родном. И сегодня в Крошнозере карельская речь звучит все реже. Жалко. Поэтому я, технарь, всю жизнь проработавший на заводе, решил писать на карельском, чтобы хоть чуть-чуть поддержать родной язык".
На днях Петр Михайлович поддержал карельский язык своей третьей по счету книгой — романом "Маша из Пухтасъярви". На примере главной героини, прототипом которой стала крестная писателя Евдокия Ивановна, автор показал, что выпало на долю карелов в XX веке.
А отец погиб на лесосеке
— Евдокия Ивановна не хотела, чтобы в книге упоминалось ее имя, — говорит Петр Михайлович. — Но многие односельчане угадают в Маше крошнозерскую Евдокию, которая за 76 лет своей жизни видела больше темного, чем светлого. Судьба пометила ее еще в двухлетнем возрасте: она обожглась от печи и шрам от ожога остался на всю жизнь.
Родилась Евдокия в 21-м в большой семье, крепко стоящей на ногах. Отец держал постоялый двор, денег хватало. Но в годы коллективизации семья лишилась всего. На семерых ребятишек осталась одна корова. Отца отправили на лесосеку, где он, сердечник, и погиб от тяжелого труда. Умереть с голоду осиротевшим детям не дал интернат. Там худо-бедно кормили. Евдокия как старшая там готовила и завтраки, и обеды, и уборщицей работала.
Потом семьям, в которых росли семь и более детей и младшему ребенку не было трех лет, советская власть стала давать денежное пособие. Евдокия могла ходить в школу. Но продолжить учебу в педучилище не получилось. Нужно было помогать матери ребятишек на ноги ставить.
Курсы финского языка
Евдокия была девушкой видной. От женихов отбоя не было. Вышла замуж за инженера Юрия. Но совместная жизнь была недолгой. Ровно через месяц началась война, Юру забрали в армию...
Евдокия попала на оборонные работы. Строила дорогу на Шокшу через болота, барахтаясь по пояс в холодной воде. Потом отправилась на оборонный завод на реке Свирь. Оказалась сначала в плену, а потом в оккупации в Крошнозере.
Евдокия работала у финнов сначала поваром, затем переводчиком в Пряже. Она была рада, что может хоть чем-то помочь своим. Женщина так настойчиво и долго переводила просьбы населения финскому начальству, что то уставало и соглашалось. Кроме того, она ездила на велосипеде по деревням и выдавала большим семьям маргарин. Мечтала встретить партизан, да не вышло.
Когда финны отступали, звали ее с собой. Мол, ты у нас работала, в Финляндии была, русские придут — не пожалеют. "Я мужа жду!" — ответила Евдокия и осталась.
К
аторжный труд на благо страны
Вскоре стали приходить письма от Юры. Он воевал в Германии, был при больших звездах и должности. Война заканчивалась, и казалось, что жизнь наконец наладится. Но тут Евдокию арестовали.
— Крестную посадили в тюрьму в Петрозаводске, — рассказывает Петр Семенов, — где таких как она, карелок, финок, находившихся в оккупации, было немало. Приговор для всех был одинаковым — 10 лет каторжных работ. Мол, вы ничем не помогли Советской армии во время войны, зато сейчас потрудитесь на благо страны. И крестная потрудилась. Сначала работала в Коми и Мордовии на лесосеке и в каменоломне, затем на швейной фабрике и скотном дворе.
Здоровье в лагерях она подорвала. Долго лежала в госпитале. Юра нашел ее, прислал письмо. Она ответила: "Я не уверена, что доживу до завтрашнего дня, устраивай свою жизнь, как тебе удобно". Юра больше не писал.
Роди, пока можешь
Когда 10-летний срок каторжных работ истек, карелка поехала домой в деревню, где нашла маму парализованной. Посмотрела на то, как мучаются ее родные, и решила, что здесь живут точно так же, как и в лагере, только без конвоиров. И опять с головой окунулась в работу...
Однажды к ней приехал Юра, который к тому времени успел жениться и развестись. Она работала продавцом в деревне. Увидев, что помогает ей в магазине мужчина, спросил: "А это твой муж?". "Да", — пошутила она. Он, ничего не сказав, тут же уехал. Мужчина тот был всего-навсего грузчиком. А сколько слез потом было ею пролито, знает только она.
Евдокия все-таки вышла второй раз замуж за мужчину, который был младше ее лет на десять. У них родился сын. И тут бы жить женщине и наслаждаться спокойной семейной жизнью. Но не судьба — муж начал крепко пить. В результате пришлось разойтись. Сама вырастила сына.
Почетная старость в доме-интернате
После армии сын Евдокии женился, приведя супругу в дом матери. Родилась внучка. Бабуля была счастлива, но двум хозяйкам на кухне стало тесновато. Выход нашла Евдокия, к тому времени репрессированная и получившая за лагерные страдания денежную компенсацию, — она попросила себе место в только что построенном доме-интернате для ветеранов.
— В доме для ветеранов жизнь кипела, — говорит Петр Михайлович. — Старички влюблялись, женились. Предлагали руку и сердце и крестной, а она отвечала: "Мне еще рано!". Так больше замуж и не вышла, до конца дней своих любя только Юру.
Умерла она тихо, не кляня свою судьбу, которая была так скупа на простое человеческое счастье.
— В моей книге, когда врач спросил у умирающей героини, — говорит писатель, — что это за шрам у нее на руке, она ответила: "Это чутко спящего и в огонь сующегося человека первый знак". На мой взгляд, весь карельский народ помечен неким знаком, приносящим несчастье. Сколько бед он пережил, выстоял, но язык свой забыл. И в этом настоящая трагедия маленького народа.