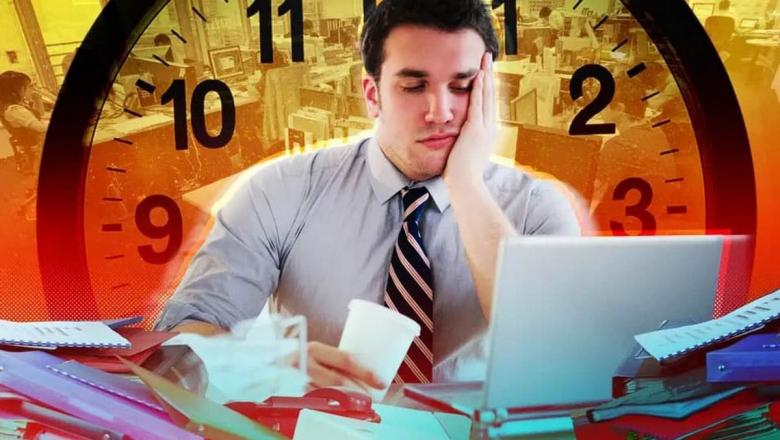О национальном проекте "Развитие агропромышленного комплекса" есть два мнения. Первое: "Наконец-то государство взялось за село. Реализуем проект — и сельское хозяйство возродится, и молодежь в города уезжать не будет". И второе: "Обычная единороссовская пропаганда. Пошумят до выборов в Госдуму и успокоятся". Хочется думать, что правы первые.
А как на самом деле? В чем стратегическая суть национального сельхозпроекта и каковы будут его результаты через год, два, десять? Поскольку проект федеральный, то и эксперта, который помог бы разобраться во всех этих вопросах, мы решили привлечь "федерального". Наш собеседник — признанный специалист в области сельского хозяйства и развития села, не состоящая ни в каких партиях руководитель Аналитического центра агропродовольственной экономики, доктор экономических наук, профессор Евгения Викторовна Серова.
Жить или выживать?
— Евгения Викторовна, почему в странах со схожим климатом сельское хозяйство успешно развивается, а в России — провал?
— Агропром — стратегическая сфера интересов государства. Везде существуют дотации сельхозпроизводителям. В Японии они — 44 %, в США — 36, в Западной Европе цифры того же порядка, а в России — 4 % от совокупных затрат на производство сельхозпродукции. Вторая причина — у России очень открытая экономика. Западные страны защищают свой агропром разными ввозными пошлинами. Мы же это пытаемся компенсировать всякими санитарными мерами, чем возмущаем весь мир. Когда торговый режим открыт, импорт все время создает конкуренцию. А что такое постоянная конкуренция? У нас нет ни минуты для модернизации.
— Но дефолт вроде бы давал нашему сельскому хозяйству хороший шанс.
— Да, в 1999-2000 годах было то, что экономисты называют окном возможностей. Потребитель переключился на отечественные продукты, у аграриев появилась возможность начать модернизацию. Но проблема в том, что в животноводстве на проект нужно 5-6 лет. А здесь передышка — 2-3 года. Потом опять пришел импорт. Поэтому первая цель того, что называют национальным проектом, обозначена верно: модернизация животноводства, субсидии на новые технологии.
— А как вы находите вторую цель — развитие малых форм хозяйствования?
— Я бы сказала так: стимулировать семьи держать корову — значит, не уважать свой народ. Это не способ развития животноводства, а способ выживания конкретной семьи. Как и приусадебный участок — не товарный способ производства, а поддержка доходов семьи. Что такое личное подсобное хозяйство? Оно было изобретено Сталиным, чтобы дать возможность выжить колхозникам, у которых отбирали все. Но сейчас-то XXI век! Нужно создавать цивилизованные рабочие места, а не раздавать по корове и по приусадебному участку, чтобы семья выжила.
Дайте денег, жилье выберу сам
— Третью цель нацпроекта — обеспечение жильем молодых специалистов — сельские руководители считают самой важной.
— Это не цель, это механизм. Механизм какой-то цели, которая так и не сформулирована в явном виде. Проблема квалифицированных кадров в сельской местности действительно очень остра. Однако вот что любопытно. Наш Центр провел социсследование в четырех регионах: Кострома, Пермь, Иваново, Воронеж. Молодым специалистам задали вопрос: "При каких условиях люди поедут работать в село?" Первое условие — это заработная плата. Второе — хорошие условия труда, возможность карьерного роста. И 17 % ответили: "Доступ в Интернет". Действительно, если у вас есть Интернет, хорошая дорога и машина, в деревне лучше жить: в городе у вас четыре стены, а в деревне строй, сколько хочешь.
Итак, жилье занимает далеко не первые позиции. Сегодня, если ты имеешь деньги, жилье себе построишь. Такое, какое хочешь, а не какое дадут. То есть это не приоритет.
Кстати, тот же вопрос задали сельским работодателям. Тут картина другая. На первое место они ставят жилье, потом — зарплату, потом — отсутствие клубов, домов культуры, то есть индустрии досуга. Мол, молодежи вечером некуда пойти.
Но сегодня ХХI век. Сегодня средоточие культуры — не сельский клуб, а Интернет. По Интернету можно получать образование, путешествовать по музеям мира, читать книжные новинки и знакомиться с новыми музыкальными направлениями, скачивать новые фильмы и общаться. Мыслить, что культура зиждется на сельском доме культуры — мыслить вчерашним днем. Кстати, мне было очень смешно, когда я узнала, что "Единая Россия" своим большинством в Госдуме приняла закон "О связи", по которому в каждом селе должен быть установлен таксофон.
— Это в век мобильной связи?
— Представьте себе.
— Может, просто кому-то нужно было сбыть тысячи невостребованных таксофонов?
— Не исключено. Впрочем, это уже другая тема. Подведем маленький итог сказанному. Цель "Развитие малых форм хозяйствования" в XXI веке звучит немного не актуально. Скидывая со счетов это соображение, будем считать, что развитие животноводства — это некоторая обоснованная цель, она имеет смысл. Вторая цель должна звучать так: не "Строительство жилья", а "Повышение уровня жизни сельского населения".
Первые всходы, первые сорняки
— Евгения Викторовна, нацпроект реализуется уже полгода. Есть ли первые итоги или хотя бы тенденции?
— По сельхозу за 5 месяцев 2006 года цифры такие. Рост объема продукции — 1,4%. В 2005 году было 2%. Все предыдущие годы, начиная с 1999-го, было порядка 6-7%. То есть явное замедление темпов. Проект, как вы помните, животноводческий в первую очередь. Поголовье крупного рогатого скота у нас продолжает снижаться. То есть тенденции эффективности нацпроекта пока не усматриваются. Впрочем, 5 месяцев — малый срок, чтобы делать выводы. Может, через год будет эффект.
Пока же мы наблюдаем такую картину. По лизингу скота: цены на племенной скот резко взлетели, по высоким ценам подсовывают некачественный скот, лимитный способ распределения. Хотя известно: если есть слово "лимит", ищите тех, кто на этом наживается.
По субсидиям: криминал уже пронюхал, как можно заработать на сельских бабушках, и вовсю осваивает "рынок". Это очень лакомый кусок — "сбор денег в деревне".
По поддержке малых форм хозяйствования: неверно выбрано направление. Во-первых, оно вступает в противоречие с крупными инвестиционными проектами. Во-вторых, как мы уже говорили, производство молока для себя — не индустрия, не развитие сельского хозяйства как отрасли.
Если посмотреть по регионам, региональная политика сегодня в области развития села куда умнее федеральной. В Пермской области, например, можно взять беспроцентный кредит на любой бизнес для села. Человек приходит и говорит: "Хочу открыть в деревне парикмахерскую" — пожалуйста кредит. "Хочу зубоврачебное кресло" — вот кредит. "Интернет-кафе" — кредит. Вот под что нужно в первую очередь давать кредит, а не под коров-быков и семена, если мы действительно хотим развивать село.
Ждать ли возрождения села?
— Евгения Викторовна, представьте, все намеченные планы будут успешно реализовываться. Возродятся российское село и сельское хозяйство?
— Национальный проект России ХХI века — 130 тысяч скотомест. Допустим, 130 тысяч скотомест будет создано. Тогда мы получим валовое производство молока не 30, а 30,5 миллиона тонн в год. Полмиллиона тонн — слишком мала эффективность для закачанных миллионов рублей. Еще нас ждет невозврат кредитов, тут никуда не денешься. Но положительные итоги, несомненно, будут. Например, рост технического обновления в связи с отменой таможенных пошлин на ввозимое сельхозоборудование. Однако кардинальных перемен, конечно, не ожидается. Национальный проект — это стратегия. Какая выбрана стратегия — возрождение прежних объемов производства? Но спрос на продовольствие удовлетворен. Главная проблема — сельская бедность, которая растет с катастрофической скоростью.
— Как же ее решать?
— Единственный способ — создание альтернативных рабочих мест, выбор экономически рентабельных направлений. На Севере невыгодно масштабное молочное животноводство, но очень выгодно форелеводство. Второе — сбор дикорастущих грибов. В Средней полосе белый гриб принимают у сборщиков по 28 рублей за килограмм, в Европе он стоит под 100 долларов. Еще одно направление — сельский туризм и так называемый "гастрономический туризм". Вот тут можно держать корову. Приезжает гость, снимает у бабушки жилье на природе, лакомится здоровой деревенской пищей, пользуется услугами по организации рыбалки... Это уже не способ выживания, а широко практикуемый бизнес.
Сельский житель с Интернетом
— Евгения Викторовна, существует такая точка зрения: если карельское сливочное масло стоит дороже белорусского, не стоит его и производить, а если карельское молоко дороже ленинградского, незачем держать стада…
— Я категорически против такого подхода. Да, есть точка зрения: раз люди не хотят жить в деревне, незачем деревни развивать, если свое мясо дороже покупного, будем закупать. Но страна должна контролировать территорию, население должно жить более-менее рассредоточенно. Но село должно быть полноценным, со всеми плюсами города! Сельское хозяйство должно быть индустриальным, высокотехнологичным, им должно заниматься 2-3 % населения, как в Западной Европе. У нас же занимается 11 %.
Да, американские окорочка дешевле местных. Но это не значит, что местное не нужно. Парное мясо всегда лучше. Как и свежее яйцо, и свежее молоко. Повторяю: сегодня перед сельхозом нет задачи увеличивать производство. Задача другая: сделать российские продукты конкурентоспособными, снизить себестоимость их производства. А для этого нужна модернизация.
— И последний вопрос. Можно ли сказать, что нацпроект — во многом пиаровская акция?
— Без сомнения. Меры в целом хорошие, но на национальный проект они не тянут. Правительству и "Единой России" нужно сегодня чем-то умаслить избирателя. Коррупция набирает обороты, административная реформа провалилась, реформа местного самоуправления оказалась непродуманной — просчетов множество.
— Спасибо, Евгения Викторовна, что ответили на наши вопросы.
— Спасибо вам, что вы не вливаетесь в общий поток пропаганды, а стремитесь разобраться в происходящем.