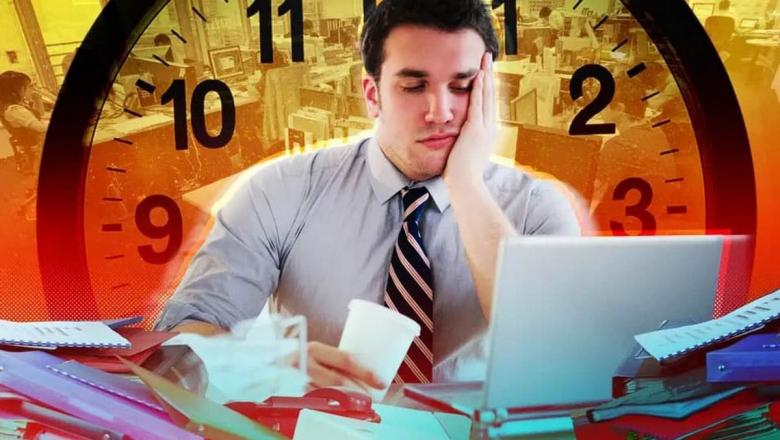Слово «первый» сопровождает Анатолия Петровича Зильбера всю жизнь. Школу в Ташкенте окончил с золотой медалью. Поступил в ленинградский Первый медицинский институт. Приехав в Петрозаводск и став хирургом республиканской больницы, первым произнес слово «анестезиология» и первым в СССР создал сначала в больнице отделение интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации, а затем аналогичный учебный курс на медицинском факультете Петрозаводского университета. После он стал заведующим соответствующей кафедрой. Труд был оценен и коллегами, и властями. Несколько орденов и медалей, научные и почетные звания (среди них – Почетный гражданин Петрозаводска) – тому подтверждение. Более того, Анатолию Петровичу первому в Карелии присвоено звание народного врача.
Труд. Интерес. Сомнение
– Не случайно, наверное, одно из ваших любимых стихотворений называется «Будьте первыми!». Его написал Роберт Рождественский.
– Поверьте, я не стремлюсь быть первым. Но поскольку хочу жить интересно, то постоянно изучаю что-то новое, то, чего пока не знают другие. Это во мне с юношества. Окончив в 1948 году ташкентскую школу, поехал поступать в Ленинградский политехнический институт на отделение ядерной физики – это направление тогда было ново. Однако уже в приемной комиссии столкнулся с, мягко говоря, несправедливостью. «Да, да, – сказали мне, – вы как золотой медалист будете приняты без вступительных экзаменов». Но на следующий день огорошили, сообщив, что я припозднился с приездом и, оказывается, квота на медалистов уже исчерпана. «Ну что ж, – ответил я, – стану поступать на общих основаниях». «Нет, – отрезали мне, – медалисты не могут поступать на общих основаниях. Приезжайте на следующий год». Я, конечно, догадался, что в те, сталинские, времена препоной на пути моего желания учиться на ядерного физика стала моя фамилия. Было горько. Пошел в Первый медицинский институт. Мои родители остались довольны. Они оба не имели не то что высшего образования, даже среднего, и очень уважали людей интеллигентных, к коим в первую очередь относили врачей.
Почти сразу окунулся в научную работу. Особо меня привлекала биохимия. Первое мое научное исследование еще в студенческие годы было посвящено проблеме обмена веществ у людей с тяжелыми ожогами. Этой темы до меня в СССР никто не касался. Я о ней узнал из иностранных медицинских журналов, читать их ходил в библиотеку – благо уже тогда владел тремя языками.
– Тогда же вы увлеклись труэнтизмом.
– Труэнты – это врачи, которые прославились какой-либо деятельностью, помимо своей сугубо медицинской. Например, всем известный собиратель рун эпоса «Калевала» Элиас Леннрот был врачом с 40-летним стажем. В XX веке главами государств становились 150 врачей, сегодня таковых 8. Среди них – президент Сирии Бешар Асад, он – офтальмолог. Я собрал более 3500 досье на врачей-труэнтов. Первым в моей коллекции стал Бертоле. Тот самый, по имени которого названа бертолетова соль, которую мы, мальчишки, использовали для шутейных взрывчиков, для смеха пугая старушек.
Тем, кого интересуют такие люди, сообщаю, что на нашем кафедральном сайте можно увидеть ежемесячно обновляемые, богато иллюстрированные рассказы о врачах-труэнтах. А издательство Петрозаводского университета готовит к публикации мою 600-страничную книгу «Врачи-труэнты».
Все новое вызывает сомнение и требует досконального изучения. Именно в силу этого с давних пор сформировалось мое жизненное кредо: труд, интерес, сомнение. Постоянно говорю об этом студентам на лекциях (в день интервью Анатолий Петрович читал лекции с 8 утра до 6 вечера. Напомню, что год его рождения – 1931-й. – Прим.авт.).
Дача, которую построил Зильбер
– Как вы оказались в Карелии?
– В 1954 году по распределению меня отправили после окончания института в Эссойлу. В Ленинграде нас с супругой (она – фтизиатр) заверили, что это село – пригород Петрозаводска и туда даже ездят троллейбусы! Однако по дороге в Эссойлу меня перехватила республиканская больница. Здесь, ассистируя величайшему тогда хирургу Василию Александровичу Баранову (чье имя носит теперь больница), я понял, что мне как хирургу надо еще учиться, учиться и учиться. Работая днем, вечерами пропадал в библиотеке. Читал много иностранной литературы по специальности. В этих буржуазных опусах и наткнулся на понятие анестезиологии, о чем у нас тогда даже понятия не было. Естественно, предложил создать аналогичную службу в республиканской больнице. Было нелегко. Но, как известно, упорство и труд… Впрочем, обо всем этом писано-переписано, и все, наверное, уже знают, как в Петрозаводске создавалась первая в СССР служба интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации.
– А вы – ее родоначальник – стали авторитетом во всем мире. Вы – почетный профессор ряда престижных европейских и американских научных центров, университетов, вас приглашают читать лекции многие страны… Когда вы все успеваете?
– Об этом тоже уже много сказано. Я живу по принципу: кто рано встает… В студенческие годы, как и многие, я подрабатывал, но не в больнице медбратом, а шоферил. Мы, несколько человек, сколотили бригаду «Хохма» (на иврите это означает «мудрость») и возили бутовый камень на Карельский перешеек. Кроме того, заколачивал деньги в джаз-бэнде. Еще в школьные годы родители обучили меня игре на пианино, а позже я сам научился играть на аккордеоне. С тех пор, к слову, неравнодушен к джазу. В общем студентом был далеко не бедным. Позволял себе покупать книги в букинистике. Именно тогда заложил основы своей библиотеки (сегодня библиотека Зильбера – одна из богатейших, в том числе и по количеству раритетов. – Прим.авт.).
Так что мои руки умеют многое. Например, построил себе двухэтажную дачу. Сам. От и до. Только камин сделал мастер каминных дел, тогдашний директор Финского театра Эдвин Алатало. А электропроводку – профессор-терапевт нашей больницы Иридий Михайлович Менделеев, в студенчестве он подрабатывал в нашем институте электриком 5-го разряда. А вот сантехнику смонтировал я сам, без посторонней помощи. Помню, как-то приехал ко мне на дачу знакомый, спец по сантехнике. Не поверил, что я все сделал сам. На спор я разобрал унитаз со всеми его конструкторскими узлами и мгновенно собрал. Этот знакомец был настолько шокирован, что предложил мне диплом сантехника 5-го разряда. Я отказался.
Страшно далеки они от народа
– Я знаю, что вас очень волнует роль врача в современном обществе.
– К сожалению, престиж профессии врача падает катастрофически (как, впрочем, и учителей, и других специальностей, напрямую связанных с контактом с людьми). Причин тому несколько. Можно, конечно, сказать дежурную фразу: каково общество – таковы и врачи. Считаю, что отчасти само государство низвело значение важнейших профессий врача и учителя, унизив их нищенской зарплатой со всеми вытекающими из этого последствиями. Но не только в этом причина. Виноваты и сами врачи. Сегодня в медицине много современной техники, значительно усовершенствовавшей процесс диагностирования и лечения. Однако у каждого явления две стороны медали. Врачи (не все, конечно) разучились видеть за техникой конкретного пациента с особенностями его характера, привычками... Врач, ограниченный в силу множества инструкций и приказов временем, отведенным ему на прием и лечение, за ворохом бумаг, которые надо ему написать, видит не человека, а только его болезнь. Забыт старый постулат: лечить надо не болезнь, а человека.
Начинается же все на студенческой скамье, где обучение как раз сведено к получению узкой специализации, что превращает врача в сугубо функциональную личность. Если когда-то врачи были широко образованными, культурными людьми, они хорошо разбирались не только в целом в медицине, но и в литературе, музыке, театре, уважительно относились к людям – и сами соответственно пользовались уважением, то сегодня такого не встретишь. Культура не передается по наследству. Над ней надо работать.
Поэтому, думаю, необходимо как можно скорее вводить гуманитарную подготовку медиков. Тогда, надеюсь, они вырастут и как специалисты, и вернется к врачам почти ушедшее чувство сострадания к больному.
– В 2009 году вы выступили в Москве с докладом «Человек и лекарство». И заявили, что современные врачи страшно далеки от народа...
– Я регулярно провожу среди медиков социологические опросы. Ответы меня пугают. Например, 50% врачей не выбрали бы эту профессию опять. На вопрос, чего вам не хватает, отвечают в такой последовательности: денег, времени, радости, решительности. Только 8% признали, что им недостает знаний и ума. В список идеалов 11% включили ум, честь и совесть вместе, половина же назвала только какое-либо одно из этих понятий. А 21% назвали правду, порядочность, здоровье, доброту.
Вскоре я поеду на очередной конгресс и буду там говорить о таком понятии, как «совесть в здравоохранении». Тема очень болезненная не только для врачей. Надеюсь, многие согласятся со мной, что чаще всего мы делаем добро в расчете на похвалу, а зло не делаем из боязни наказания. При этом считаем, что поступаем по совести. На самом деле, полагаю, что совесть – это внутренняя потребность совершать добрые дела и воздерживаться от недобрых. Но при условии, что обо всем этом никто и никогда не узнает. Потому что делать мы их должны не для рекламы самих себя, а исходя из принципов собственной духовной жизни.